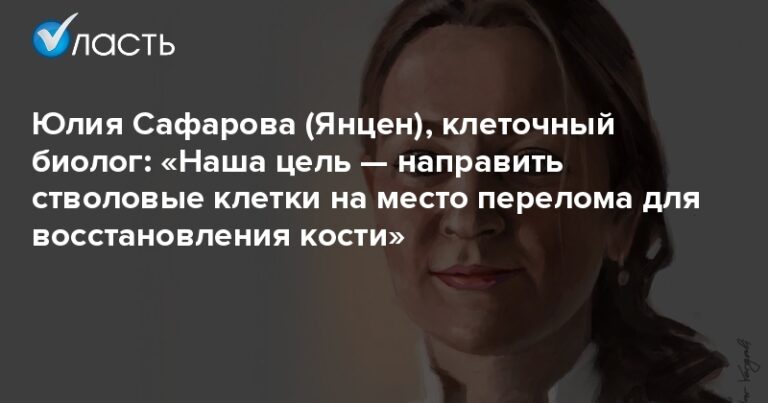
[ad_1]
Асель: Сейчас ты заканчиваешь PhD в Назарбаев Университете. Какие дальнейшие планы?
Юлия: Что касается этого проекта, то надо дождаться момента, когда решится вопрос с законодательством и регистрацией медицинских клеточных продуктов. Я работаю над этим проектом уже 9 лет. Но для ученого важно в какой-то момент уйти в свободное плавание, оторваться от материнского института. Важно выходить из зоны комфорта. Для научного сотрудника особенно важно выезжать, ездить на стажировки за рубежом и смотреть, как система работает там. Сейчас очень много возможностей для этого. Есть, например, Фонд первого президента, Британский совет и Исламский банк развития, которые предлагают гранты, периодически объявляют конкурсы. После защиты я хотела бы попробовать себя в чуть другом направлении, а где именно работать, я пока не знаю, буду пробовать.
Асель: Ты не жалеешь, что не стала врачом?
Юлия: Моя работа всё равно связана с медициной. Врачом в нашей реальности быть очень тяжело. Меня беспокоит, например, привлечение врачей к уголовной ответственности за врачебные ошибки. Я рада быть на стыке науки и медицины. Цепь случайных событий привела меня в науку. И только сейчас, заканчивая PhD, я понимаю, что 10 лет назад, когда я вернулась с учебы домой и думала, что всё могу, я совсем не понимала, что такое наука. Наверное, в этом и весь смысл исследовательской работы.
Асель: А каково быть мамой в казахстанской науке?
Юлия: Быть мамой везде сложно. Для мамы-ученого появляются ограничения в свободе мышления, ведь нельзя всё бросить и записать свои идеи и мысли, когда пришло вдохновение. Маме думать о науке можно только в ограниченные промежутки времени, когда она не занята ребенком. Конечно, у нас в стране мамам, может быть, даже легче работать в науке, так как в нашей культуре сильна поддержка семьи, с детьми могут помочь бабушки и дедушки.
Асель: Каково положение женщины в науке? Чувствуешь ли ты проявление сексизма и эйджизма?
Юлия: У нас в университете нет, но в целом в некоторой степени это есть. Я сталкиваюсь с этим в национальных институтах или во время конференций в России. Мы часто шутим, что на американские конференции можно ездить в шортах и все равно все будут с тобой разговаривать на равных, а у нас на постсоветском пространстве молодым девушкам сложнее, не всегда нас воспринимают всерьез.
Асель: Наш традиционный вопрос. Казахстанская наука: пациент скорее жив или мертв?
Юлия: Конечно, жив! Во многом, это благодаря обновлению кадров. Сначала очень много вернулось бакалавров и магистров, которые видели, как наука работает за рубежом. Сейчас вернулись и молодые доктора PhD. Не хочу как-то обидеть советскую и постсоветскую науку, но нам важно ориентироваться на мировой уровень, особенно в биологии. Сейчас в Назарбаев Университете у нас замечательная база, замечательные лаборатории. Уровень цитируемости наших исследователей становится выше.
Есть небольшая проблема со СМИ. Не подготовлена база журналистов, которые могут писать про биомедицинские исследования. Бывает так, что задают вопросы, а потом пишут, что «казахстанские ученые изобрели эликсир долголетия». Очень не хочется стать «британскими учеными», но для этого нам нужно развивать научную коммуникацию. Но в целом, прозрачность финансирования стала выше. Комитет науки провел большую работу, чтобы перевести заявки в электронный формат, и это на самом деле замечательно. Казахстанская наука жива и ее создают наши ученые!
Автор благодарит Айгуль Шапранову за помощь в подготовке материала.
[ad_2]
Source link